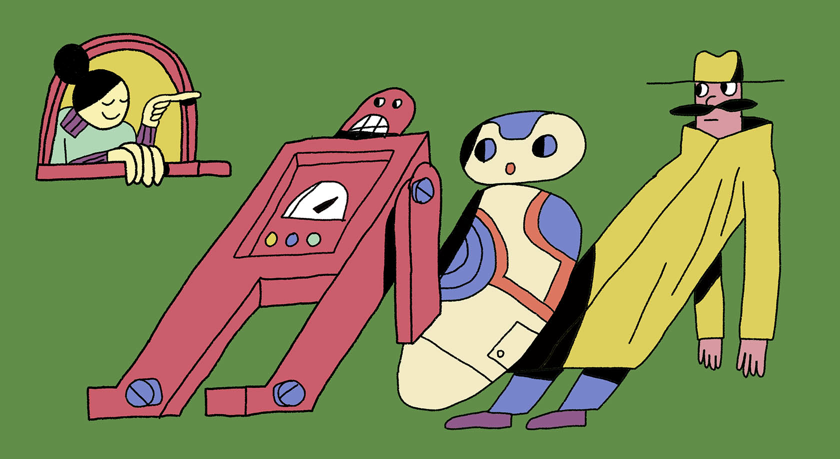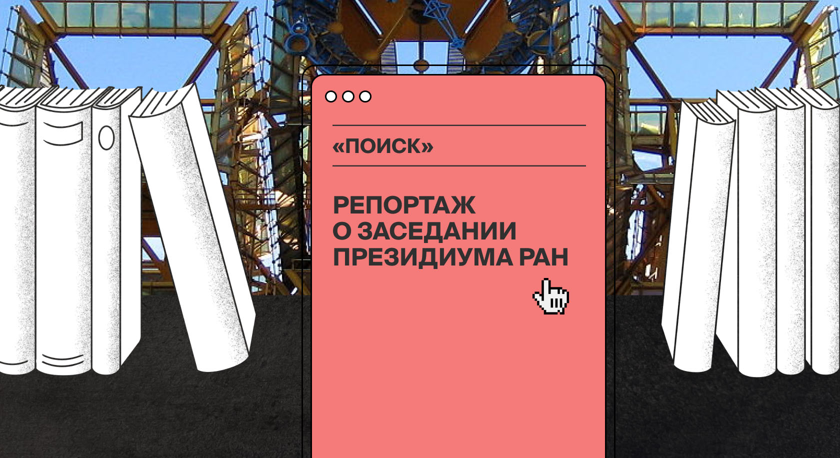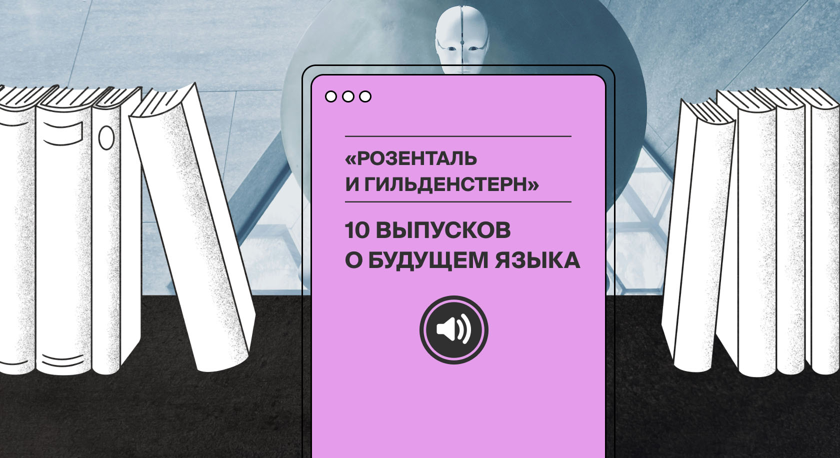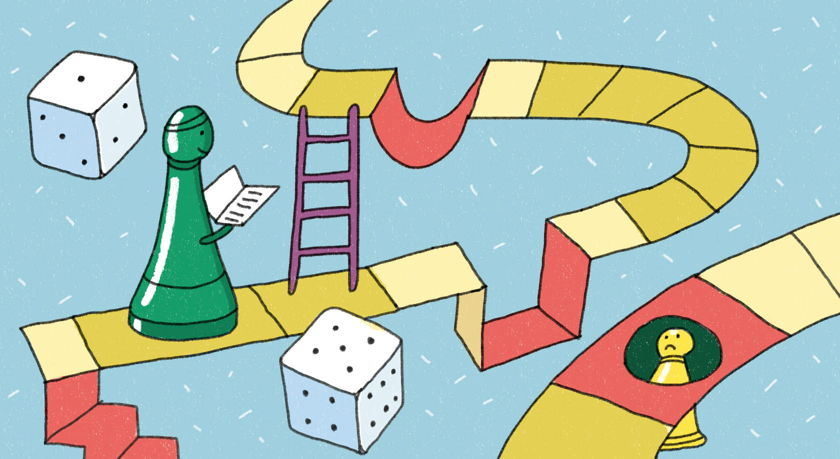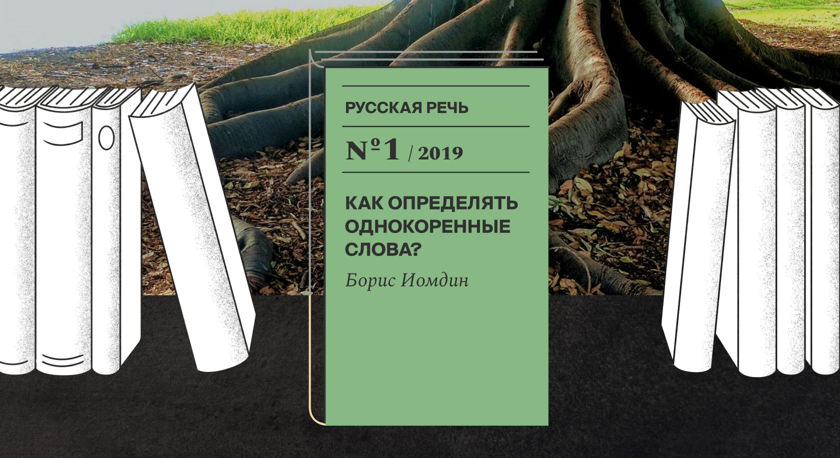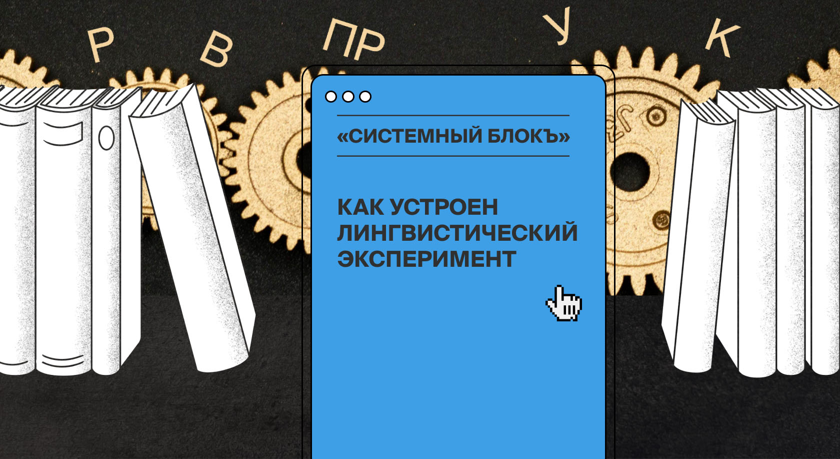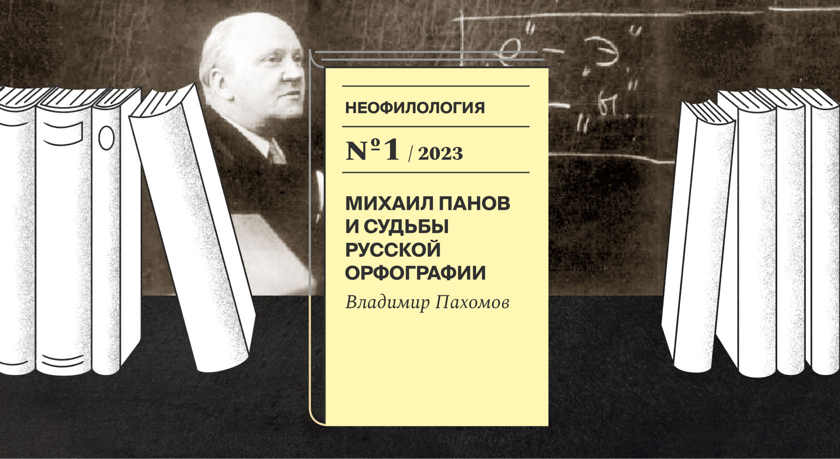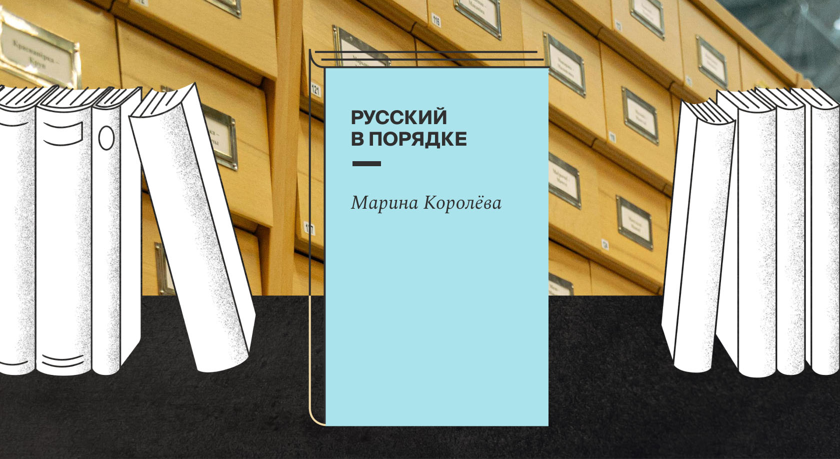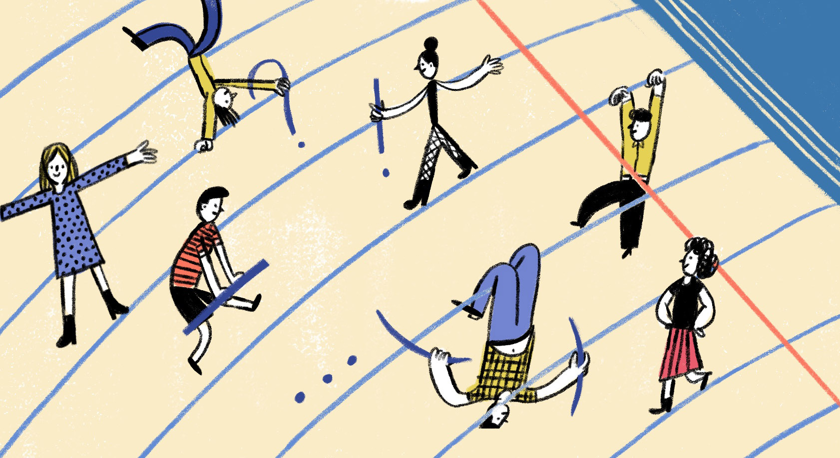Поэтический театр 90-х годов ХХ века: игра слова
Тема театра в поэзии конца ХХ века возникает в соответствии с провозглашением установки на игру как творческого метода. Так или иначе она звучит в текстах-манифестах поэтов-метареалистов Ивана Жданова («До слова»), Сергея Соловьева («Амфитеатр печатной машинки...») и Алексея Парщикова («Вступление»).
Все эти тексты обнаруживают как схождения между собой, так и близость идеям о театре и слове Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. Игра слова, как и актерская игра, представлена в них метафорой смерти и воскресения через созвучные античные и библейские (евангелические) мотивы.
С пастернаковским «Гамлетом» эти тексты связывает не только единство действия, разворачивающегося на поэтических «подмостках». В стихотворении Жданова «До слова» находим отсылку к финалу «Гамлета», ср.: Жизнь прожить — не поле перейти (Паст.) и Я брошу балаган — и там, в открытом поле... (Жд.). Есть и еще одно направление в диалоге Жданова с Пастернаком: через ряд ключевых образов «До слова» связано с «Гефсиманским садом». Обращения Соловьева и Парщикова к Пастернаку почти неуловимы, они напоминают скорее сноску и отсылают к первому варианту «Гамлета»: Это шум вдали идущих действий. / Я играю в них во всех пяти, — читаем у Пастернака, Пять на пять мы играем... — у Соловьева (ср. также: Гул затих... (Паст.) и Барабанная дробь, нарастающий гул голосов... (Сол.); у Пастернака первоначально текст открывался словами: Вот я весь, у Парщикова в финале «Вступления» звучит: Вот я, Господи, весь... (ср. также аллюзию к полю жизни: чтоб дух прокормить, соберем травы / на хуторах плодоносных...). См. также заметки Мандельштама «Художественный театр и слово», «Березиль» и «Яхонтов» и стихи «Я слово позабыл...», «Где связанный и пригвожденный стон?», «1 января 1924» и др.
Если внимательно прочесть «До слова» Жданова, можно обнаружить в подтексте мысли, созвучные тем, что Мандельштам высказывал в своих заметках о театре.
Отвергается балаган, по Мандельштаму, «театр без литературы и психологии, обращенный к зрителю через голову автора»1. Так или иначе присутствуют бытовой театр-толмач, переводящий текст на актерскую азбуку чувств2, и нутряной театр, актерская читка с надрывом3. Ср. у Жданова: Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт, и пьяная тоска, горящая, как натрий, в кромешной темноте по залу пролетит. /.../ Я брошу балаган — и там, в открытом поле... Строка Ты — сцена и актер в пустующем театре, которой начинается стихотворение, кажется эхом размышлений Мандельштама о том, что театр весь дан в слове4. Уместно вспомнить в этой связи и его определение идеального актера: В каждую данную минуту он дает широко раздвинутый перспективный образ. Редкому актерскому ансамблю удается так наполнить и населить пустую сцену5. Такой актер движется в слове, как в пространстве и играет читателя6, при этом читатель равноправен автору.
Вот как описывает происходящее в театре, данном в слове, Жданов: Как будто кто-то спит и видит этот сон, где ты живешь один, не ведая при этом, что день за днем ты ждешь, когда проснется он. Неопределенное местоимение кто-то может относиться и к зрителю, которому кажется сном то, что происходит на сцене, в этом случае актер ждет, когда он, зритель, проснется (то же самое можно сказать и о читателе и авторе). Но кто-то может относиться и к персонажу, это становится ясным при обращении к одноименному эссе Жданова: Ты для него — ...тайна за семью печатями, персонаж многих его видений. ... На него опущен колпак... он следует за ним, как его собственная тень, и это преследование вовсе не сон... он для него — панорамный экран, по которому движутся бесчисленные персонажи его «я», беспорядочный набор картинок, ...буквы из рассыпанной наборной кассы, рваные клочки того, что когда-то было книгой. Кто-то, как и ты, — это и одно из «я» автора, самовластного режиссера, при котором, по выражению Мандельштама, актер угнетен и превращен в сомнамбулу, и каждый из нас, готовый с автором вступить в сотворчество и заставить его сказать: Я брошу балаган — и там, в открытом поле... Но кто-то видит сон, и сон длинней меня.
Вначале «театр» статичен: немоте зала, застывшего без движения (а в театре, чтобы двигаться, нужно говорить), противопоставлен звучащий со сцены монолог. Затем граница между залом и сценой становится проницаемой, партер перерастает в гору, подножием своим полсцены обхватив, одновременно кромешная тьма просветляется, в ней уже можно различить тени, одна из которых — тень слова, соловьиный свист. Звуковые соответствия подчеркивают мотив преобразования, одно слово как бы «прорастает» звучанием в другом. Так, гора ассоциируется с хорами — галереей в верхней части зала, на которой размещались хор и оркестр, затем превратившейся в галерку, прибежище беззаветно преданных театру зрителей. Эта поэтическая ситуация близка к описанной некогда Мандельштамом: Где-то хоры сладкие Орфея / И родные темные зрачки, / И на грядки кресел с галереи / Падают афиши-голубки, с той разницей, что у Жданова вместо хоров Орфея звучит Сизифов монолог7.
Но есть и другая параллель — с «Гамлетом» Пастернака: На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей... Я один, все тонет в фарисействе. В упоминании Ждановым того, что в зале различимы в кромешной темноте... утлые гробы незаселенных кресел, присутствует и намек на обличение фарисеев Христом: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. /.../ Посему Я посылаю к вам пророков, ...и вы иных убьете, и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город (Матф., гл. XXIII).
О гонимом пророке заставляет вспомнить строка: и тень твоя пошла по городу... размешивать гульбу. Этот мотив дается сквозь призму притчи о блудном сыне, в гульбе расточившем имение (Лук. XIV, 11–32) и ставшем, соответственно, немым. Тема фарисеев и пророков звучит явственно и в другом фрагменте: тебя возносит в драме высвечивать углы, разбойничать и жечь... ты — соловьиный свист, летящий рикошетом.... В подтексте — угль, пылающий огнем в груди пушкинского пророка и его жгущий сердца людей глагол, но не только. На ум сразу приходят и соловей-разбойник, и благочестивый разбойник, распятый рядом с Христом и удостоившийся обещания: ныне же будешь со мною в раю... Таким образом, поэтическое слово, преодолевая немоту зала, возносится вслед за сорванным занавесом и попадает в раёк: и на театральную галерку, и в уличный театр «передвижных картинок».
«Райские кущи» на сцене представляют вначале тряпичные сады (побитый молью хлам), они задушены плодами. Речевая ситуация начала действия символизирует ситуацию изгнания из языкового рая8, она изменяется, когда, свивая в смерч горчичную тюрьму, рождается впотьмах само собою слово. Здесь важно вспомнить, что в притче о Царстве Божием говорится, что «оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и оно возросло и стало большим деревом, и птицы небесныя укрывались в ветвях его» (Лук., XIII, 19). Здесь можно усмотреть диалог и с «Гефсиманским садом» Пастернака, ср.: Ночная даль теперь казалась краем / Уничтоженья и небытия. / Простор вселенной был необитаем, / И только сад был местом для житья. / И, глядя в эти черные провалы, / Пустые, без начала и конца, / Чтоб эта чаша смерти миновала, / В поту кровавом он просил Отца.
Возможно, именно «молитва о чаше» перегибает гортань лирического героя Жданова, ср. его «Взгляд», где речь идет о молитве в Гефсиманском саду. Жданов, обращаясь к Пастернаку, опирается, по-видимому, на мысль о том, что Гамлет отказывается от себя, чтобы творить волю пославшего его, а быть или не быть — это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силою чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской9. Интересно, что по мере того, как слова уступают соловьиному свисту, а затем слову «от Бога», меняется и «шумовое оформление», и «климат» текста: жестяной погром сменяется почти апокалиптической очищающей грозой, отступают и лед, и холода — ты падаешь, как степь, изъеденная зноем, и всадники толпой соскакивают с туч, и свежестью разят пространство раздвижное, и крылья берегов обхватывают луч. Приходит в движение и театр: слово... тянется к тебе, и ты идешь к нему, это и слово актера и автора, и слово зрителя и читателя, бытующее в открытом поле восприятия, начинающемся за полем страницы.
Соловьев, как кажется, следует постоянно подчеркиваемой Пастернаком идее об идущей от античности слитности актерской игры и подлинного умирания и мысли (Ольга Фрейденберг) о том, что умирающие и воскресающие боги, среди которых она упоминает и Христа, могут рассматриваться как метафорические двойники актеров: «Недаром протагонистом театра является бог смерти и воскресения Дионис: жертва тождественна актеру; и играть... — это значит умереть и воскреснуть»10. В стихотворении Соловьева «Амфитеатр печатной машинки» Дионис — одно из главных действующих лиц, вместе с Аполлоном он ведет «дионисийские игры».
Первая же строка рассматриваемого текста задает тему: Амфитеатр печатной машинки — античность. Как и в греческом театре, игра идет под небом притихшим, она охватывает амфитеатр (зрителей), орхестру — «площадку для пляски» актеров (в поздней античности они выступали на возвышавшейся над орхестрой эстраде и были отделены от хора, в классический период — вместе с хором располагались в пространстве орхестры). Здесь есть и маски, непременный атрибут обрядовой драмы, отвечавший установке греческого искусства на подачу обобщенных образов, и бог из машины.
Сама структура текста напоминает сценарий Великих Дионисий: «В первый день ... бог мыслился присутствующим на поэтических состязаниях.., второй и третий день были уделены для дифирамбов и лирических хоров, последние три дня — для драматических игр»11. У Соловьева вначале на поэтической сцене появляются Дионис с Аполлоном, затем вступает хор (гул голосов), а затем разыгрывается уже «греческая драма периода Римской империи», в ней звучат христианские мотивы, созвучные представлениям о богах-спасителях. Как и в греческой драме, поэт пишет не только текст и пьесу, он отвечает и за музыкальную и балетную часть драмы, становится и режиссером, и актером.
Тесная связь двух образов — античного амфитеатра и печатной машинки — подчеркивается структурой генитивной метафоры-сравнения.
Интерференция денотативных пространств, заданных ее компонентами, рождает новые метафорические обозначения12, например: актеры ‘пальцы’ (пять на пять мы играем — актеры слепые, ср. устойчивое выражение: печатать вслепую), занавес пальцев ‘граница между двумя мирами’, зрители ‘читатели / буквы, слова, текст’ (зрители есть, но их нет; текст... в роли зрителя), ряды ‘ряды строк и клавиш’, орхестра ‘чистая строка’, маска 'буква', атрибут как актерской игры, так и зрительского восприятия («узнавания» маски); музыка, барабанная дробь, нарастающий гул голосов 'звуки, рождаемые печатной машинкой', машина (театральное подъемное устройство) ‘клавиша переключения регистра шрифта / печатная машинка’, бог из машины ‘вдохновение, наитие’.
Театр трансформируется в цирк, когда исполняется «смертельный номер» (прыжок за пределы сознанья под барабанную дробь): Вот пред тобою два огненных обруча мысли: сквозь первый / прыгаешь сам и в паденье касаешься маски, и маска — / ... летит сквозь второй, оплавляясь по краю... На уровне референции — это описание прикосновения к клавише и «полет» буквы на вправленную в машинку бумагу, описание оформления мысли в слово. На смысловом уровне мы имеем интерференцию двух денотативных пространств: два огненных обруча (цирк, спектакль) — двоеточие (текст). Смысловая точка их пересечения — представление о трюке (ср. уже упомянутый прыжок сквозь два огненных обруча мысли с видением Аполлона и Диониса акробатами на трапеции, они во тьме над орхестрою кружат, снижаясь). А трюк, как известно, это «ловкий искусный прием», уместный как на сцене, так и на арене цирка, равно как и в тексте.
Маска, зритель, актер... — эти слова в контексте стихотворения воспринимаются как синонимы и соотносятся с субъектом поэтического мира, которому адресованы вопрос и утверждение: Кто ты теперь? твои роли ветвятся.
В отличие от «До слова» Жданова, где зритель и актер отделены друг от друга и в контакт не вступают, в стихотворении Соловьева зритель и актер постоянно меняются местами.
Они — «равнодействующие» пьесы (пять на пять мы играем), «равноудаленные» от чистого листа, на который она ложится (пядь на пядь с пустотою). Упоминание двоеточья как знака, вводящего прямую речь, заставляет обратить внимание на следующий фрагмент: Скажи: «Что вверху — то внизу», я держу двоеточье. Молчанье. Можно предположить, что автор обращается к читателю, но попытка вложить слова в его уста оказывается безуспешной. Однако императивное скажи может быть и обращением «высшего» к «низшему», или, если использовать театральную терминологию, «главного режиссера» к «ассистенту» и через него — к «актеру»13.
То же касается и адресованного сразу печатной машинке, маске, зрителю, актеру и автору пьесы вопроса: Кто играет тобой /.../ — наитье? Словарное значение слова наитье (‘вдохновение, внушение свыше, внезапно пришедшая мысль, восприятие на уровне подсознания’) обыгрывается, включаясь в оппозицию «вверху — внизу» (‘свыше — на уровне говорящего / адресата высказывания’, ‘в сознании — в подсознании’, ‘на листе бумаги — на клавиатуре машинки’). Играть — значит ‘обращаться с кем-то или чем-то как с игрушкой, подчиняя своей воле’.
Местоимение ты в приведенном выше вопросе становится «маской» того, кем играет наитье (автора), того, кто становится актером или персонажем, а также «маской» слова и мысли и их отпечатка на клавишах, — того, чем играет автор. Кроме того, в тексте Соловьева есть и указание на «человека вообще» — носителя языка (это значение переменной ты задает перифраз устойчивой формулы имя рек ‘некто’: твое имя речи). Ответом на вопрос «кто» может быть как «тот, кто разыгрывает пьесу на клавишах» (автор, режиссер, актер), так и «тот, кто наблюдает за разыгрывающимся спектаклем» (читатель, зритель), не говоря уже о том, кто превращает и одного и другого в зомби, от чьего имени, возможно, произносятся пересказанные автором читателю слова: тронешь маску — очнется на белом.
Соловьев дает и «зримый» образ, который принимает «маска» (буква или слово): Для глаза — ты воздушный десант на ледник приземлившийся, в связке по карнизу идущий над бездной безмолвья (буква за буквой рождается слово на белой странице над «карнизом» каретки, над еще не «озвученной» пустотой листа — за метафорой стоит очень ясный зрительный образ); и «мыслимый»: Сознанье понимает тебя как прыжок за пределы сознанья (как мы уже знаем, имеется в виду прыжок сквозь горящие обручи мысли, переход от внешнего к внутреннему и смещенье опоры, с устойчивого языкового значения, через серию данных «через запятую» преобразований, на поэтическое) — маска ... летит.., оплавляясь по краю, удар — и, впечатавшись в лед, остывает с протяжным шипеньем, то есть рождает дополнительные смыслы, «отзвуки» слова.
В данном случае лед, как и ледник — метафорическое обозначение белого, как лед, листа бумаги. Метафора реализуется отсылкой к денотативному пространству, заданному словосочетанием «печатная машинка», — буква-маска впечатывается в лед, летя на ледник.
Однако лед здесь и синоним застывшей формы (остывает с протяжным шипеньем — то есть отливается в форме, раскаленная, расплавленная субстанция охлаждается, принимая тот или иной вид). Мотив «ледяного литья» встречается в поэзии метареализма довольно часто, ср. у Парщикова: лошадь, словно во льду обожженная, ... апостол движения. Обратим внимание также на противопоставления жара и холода в анализируемых текстах: у Соловьева лед охлаждает и угли в паху, и жар воспаленных губ, у Жданова лед, холода, ледяной взгляд противопоставляются изъеденной зноем степи, окруженной полем страницы, Парщиков, оставив первопрестольный снег, правит на юг, он обольщен жарой, его образы рождаются в жгучий день, персонажи связаны температурой тел, поля его страниц — это поля теплой Полтавы.
Амфитеатр печатной машинки превращается в театр военных действий: заминирован воздух, движение рычажка с литерой напоминает щелчок катапульты. Воздушный десант букв ассоциируется с небесным воинством — Аполлон, небожитель, кружит над орхестрою на слепящей стреле, зомби, прошедшему через запятые возгонки, адресован вопрос: Каково тебе там? виден берег ли, слышно ли ангелов пенье? С одной стороны, получает развитие вертикаль текста: воздух под небом притихшим — бездна безмолвия — ангелов пенье (что вверху — то внизу), с другой стороны, вводится аллюзия к Жданову (ср. у него: и всадники толпой соскакивают с туч... и крылья берегов обхватывают луч), что заставляет внимательно рассмотреть другие смысловые корреляции.
Косвенным образом и в тексте Соловьева присутствует и тема сна — ее вводит слово очнуться ‘пробудиться’, у которого есть и значение ‘придти в сознание’, существенное для трактовки темы в духе Фрейда. Сон открывает нам путь к бессознательному, он — также прыжок за пределы сознанья, зомби движим бессознательным и действует (как и актер-сомнамбула, о котором шла речь выше) «как во сне», именно поэтому его роли ветвятся, подобно связанным по ассоциации образам сновидения. Здесь можно провести параллель и с тем фрагментом «До слова» Жданова, где идет речь о сновидении, в котором слово, вырвавшись из плена горчичного семени, вырастает в древо Царства Небесного. Вместе с тем речь идет и о «вечном сне» — смерти: с ней ассоциируются тьма, пустота, безмолвие и кома, обморок, бред, так называемые пограничные состояния. «Просветления» носят по большей части болезненный характер, вначале свет несут обжигающие огненные обручи и слепящая стрела, лишь затем — дым золотой, прежде чем погруженное во тьму очнется на белом. Что касается «обретения дара речи», то музыка и барабанная дробь превращаются в гул голосов, и, в конце концов, страница ликует, свистит. Процесс творчества связывается с преодолением пограничного состояния между языком и речью: так из комы пространства рождается время14.
Технология процесса описывается так: Палец ищет зазор между смехом ребенка и смертью. Вопрос Что за пауза в пьесе?, звучащий сразу вслед за этим, получает ответ при обращении к одному из рассуждений о театре Мандельштама: «Что такое знаменитые паузы? Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание... Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура»15. Итак, пауза возникает в разыгрываемой на печатной машинке пьесе в момент, предшествующий извлечению при помощи клавиш слова из небытия.
Вместе с тем в «Амфитеатре печатной машинки...» Соловьева пауза — это и своего рода «антракт» между первым и вторым действием, в котором начинаются «игры» Диониса и Аполлона на клавишах: Они в танце сплетаются: музыке в такт Аполлона запястья / осторожно ложатся на чуткие бедра любимца богов Диониса; / его бедра как дрожь валунов, лишь прожилки мерцающей бронзы / под ладонью пульсируют. Обморок, пир предвкушения... Оба / запрокинули головы. Угли в паху. Нестерпимо блаженство. Стихает / музыка, стелется дым золотой, опускается занавес пальцев. /.../ Меж рядами, / пригибаясь, бежит зазевавшийся бог из машины. Страница, встав на цыпочки, машет, ликует, свистит... Сдвиг каретки, — / орхестра пуста. Это отсылка к Дионисийским играм, во время которых в возбужденной пляске участники доводили себя до экстатического состояния «богоодержимости», разрывали на части и пожирали воплощение бога, при этом, растерзав своего бога, они затем пестовали его, как вновь родившегося младенца16.
Пир предвкушения оргии оборачивается (Соловьев использует принципиальную обратимость структуры генитивной метафоры) предвкушением пира: боги исчезают, но возникает текст, «богорожденный младенец». Блаженство, приближающее этот момент, стихает, вслед за музыкой, подобно боли (угли в паху оборачиваются золотым дымом). Этот мотив находит свое развитие в третьем акте пьесы, когда речь идет уже о тексте: в те ночи, когда он метался в бреду, ты губами / к его воспаленным губам прижимался, и жар утихал17.
И Аполлон, и Дионис — сыновья Зевса. Диониса, однако, Зевс «выносил», зашив в бедро, и «произвел на свет» сам. Аполлон же — небожитель, «отца не помнящий», у него нет отчества, он именуется Летоидом по имени матери, но борется за отцовское право. Этот мотив античного мифа отражается в мифе христианском, чьи отголоски мы видим в рассматриваемом тексте18: Отзовется? Но кто ты ему? — лишь согбенный ремесленник, отчим. Ты скажешь: «Он слово, Он сущий!». О да, но твое имя речи — Мария. И только. Курсивом: вначале всего — Богородица Дева. Потом — Рождество. Именно в третьем акте завершается развитие темы рождения слова в поэтическом театре: Слово (Логос) воплощается в Языке и звучит в Речи, поэт, как Иосиф — Марии (ср. обращение к поэту: Плотник, ты распят на своем ремесле), помогает приблизить Рождество, в данном случае — рождение Текста.
«Театр» Парщикова — совсем иного рода, чем тот, с каким мы познакомились, анализируя Жданова и Соловьева.
Во «Вступлении» мы обнаружим евангелические мотивы — буквы предстают в образе воинства, отправляющегося в поход к Небесному Иерусалиму: Буквы, вы — армия, ослепшая вдруг и бредущая краем времен, /.../ брошена техника, /.../ но очнутся войска, доберись хоть один до двенадцатислойных стен Идеального Города, и выспись на чистом, и стань — херувим... (здесь можно увидеть и рефлекс представления о фарисеях — «слепых вождях»).
Есть и мотивы античные: буквы /.../ мы вас видим вплотную — рис ресниц, и сверху — риски колонн... Полусфера рычажков печатной машинки уподобляется «площадке для пляски» — орхестре, встающие при нажатии клавиш рычажки с литерами — колоннаде проскения, в котором размещались условные декорации, в этом случае скеной оказывается заправленный в машинку лист бумаги; действие разворачивается перед стенами, в данном случае «штурмуемого» возведенного на чистом листе Идеального Города, населенного персонажами. Машинка у Парщикова — тот же амфитеатр, но спиной развернутый к хору, это зрительный зал, «развернутый» не к сцене, а вовне. Такое положение амфитеатра клавиш по отношению к «месту действия» — листу — объясняет и «слепоту» букв (и отсылает к способу печатать «вслепую»), и «зрячесть» пальцев: Все, что я вижу, вилку дает от хрусталика — в сердце и в мозг, и, скрестившись на кончиках пальцев, ссыпается в лязг машинописи..
Есть и указание на то, что труд поэта — вовсе не «сизифов»: лист идет, как лавина бы — вспять, вбок — поправка — и в гору (у Жданова, напомним, поэт катит, как Сизиф, свой монолог по рядам перерастающего в гору партера).
Если говорить об аллюзиях, связывающих «Вступление» с другими рассматриваемыми текстами, то стоит упомянуть и мотив «ветвления» текста (лист идет вспять... вбок..., кроме того, ветка используется в игре со строчкой), и мотив игры — главного для Парщикова атрибута театральности.
У Жданова игра — это игра актерская и «разыгрывание» пьесы как на сцене, так и на инструменте, который сродни музыкальному, кроме того, им упоминается и такой атрибут игры, как крап — «метки» на рубашке карты или обрезе книги; крапленый кавардак, составляющий «реквизит» текста, это, по-видимому, слова, «помеченные» для успеха игры. Соловьев, подхватывая тему крапленых слов, «листов» тряпичного сада во «Введении в контекст», в одном из фрагментов, пишет: Дымится речь — крапленая листва, а собственно в «Амфитеатре печатной машинки...» объединяет актерскую, музыкальную и азартную игру с печатаньем «десятью пальцами»: Пять на пять мы играем — актеры слепые... /.../ Стихает музыка, ... опускается занавес пальцев.
Парщиков останавливается на игре как таковой: Выиграй, мой инструмент, кинь на пальцах — очко! (кстати, в «очко» играют именно «пять на пять», возможно, Соловьев «цитирует»), выброшенные пальцами буквы — игра «на удачу». Но это игра и ради удовольствия: Беги, моя строчка, мой пес, — лови! — и возвращайся к ноге с веткой в сходящихся челюстях, и снова служи дуге, — улетает посылка глазу на радость, а мышцам твоим на работу... Игра со строчкой, принявшей образ охотничьего пса, это «фотоохота»19, «фоторужье» в данном случае — глаз, «снимок» проявляется на бумаге, в качестве «реактива» используется визуальная метафора.
Показательны и такие строки: вот я, Господи, весь, вот мой пес, он бежит моей властью васильками — Велеса внук — и возвращается — св. Власий. Достаточно вспомнить, что в «Слове о полку Игореве» Велесовым внуком назван Баян, чтобы ощутить связь времен и ликов божества, охранявшего как домашних животных (строчка-пес — под его защитой), так и поля и богатство. Вместе с тем Велеса называли и чертом, такое употребление имени акцентирует внимание на аксиологической вертикали текста (верх — низ, Идеальный Город, рай — ад, как и Аполлон, Велес связывает небеса, землю и преисподнюю).
Однако именно во власти поэта связать язычество и христианство, создать рай и ад, совместив поле жизни с полями страниц.
Если у Жданова и Соловьева текст, строки, слова и буквы — это воплощение Слова, языка и речи, то у Парщикова буквы, слова, строки и текст — «коды» бытия, с помощью которых «говорят» микрокосм и макрокосм, попытка представить «пантомиму», «пластическую драму» образов в серии словесных театральных «этюдов», в соответствии с принципом: мир делится на человека, а умножается на остальное.
В завершение приведем высказывание Мандельштама о Художественном театре, которое, с известными поправками, можно отнести и к поэтическому театру 1980–1990-х годов: «Сходить в „Художественный“ для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь. /.../ Общество, которое всем своим складом было враждебно всякому театру, строило свой театр из всего, что ему было дорого... /.../ Источником этого театра было своеобразное стремление прикоснуться к литературе, как к живому телу, осязать ее и вложить в нее персты. Пафосом поколения — и с ним Художественного театра — был пафос Фомы неверующего»20.
Поэтический театр метареалистов стремится в своем прикосновении к слову взойти на Голгофу, слепив ее из букв, но и пытается воссоздать рай в тексте.
Он, если воспользоваться выражением Мандельштама, становится чем-то вроде толмача литературы, как бы переводчика ее на другой, более понятный и уже совершенно свой язык21, «пьеса» же — это монтаж, стройное литературное целое, точно воспроизводящее внутренний мир читателя, где рядом существуют, набегая друг на друга и заслоняя друг друга, различные литературные произведения22. И вместе с тем поэтический театр 1980–1990-х годов ХХ века возвращается к слову, воскрешая его самобытную силу и гибкость.
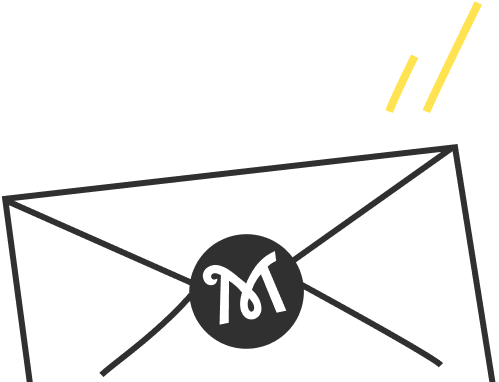
Еще на
эту тему
Театральные термины
Как появились раек, галерка и галерея
Как поэтическая речь влияет на формирование родного языка
На что опираться, чтобы сохранить язык у детей, если нет каждодневной русскоязычной среды
Реализация и развертывание речевых клише как прием поэтизации прозы у Владимира Набокова
Семантическое поле «остроты зрения» является наиболее активной зоной преобразований